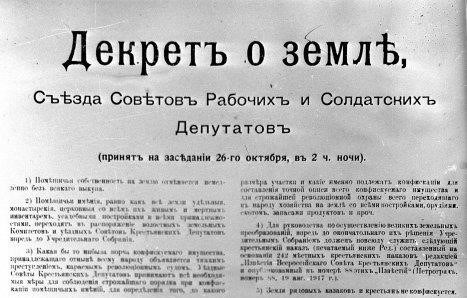
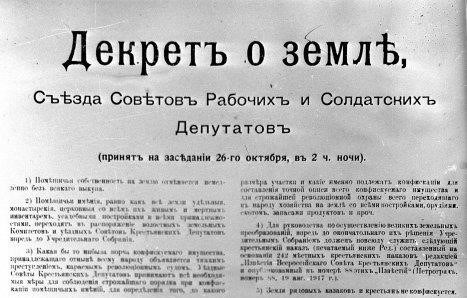
Декрет о земле «узаконил» захват помещичьих земель крестьянами, который начался весной и летом 1917 года. Временное правительство не приняло никаких решений, чтобы остановить волнения в деревнях. О причинах «черного передела» и кандидатах, руководствовавшихся 94 документами, рассказывает член его кружка, защитник, кандидат исторических наук, представитель первого созыва Александр Минцеренко.
Социалисты-революционеры и Меньшук не хотели посылать войска в села, как это делали прежние власти. А если и посылали, то пропагандисты солдат — сами крестьяне — принципиально не применяли насилия против своего же класса сторонников.
К утру стало ясно, что власти не в силах остановить начавшийся заслуженный «черный передел» для вольнолюбивых крестьян.
Однако в мае-июне 1917 года, во время первого Всероссийского крестьянского съезда, Временное правительство довело до сознания сельского населения, что «окончательное решение территориального вопроса должно быть предоставлено Конституционному совещанию». . Однако крестьяне пытались предугадать будущее законодательство этого утвержденного форума. Сторонники деревни поддержали другую резолюцию, которую планировалось сделать доступной для фермеров и которую они должны были выполнять с перерывами и без компенсации.
Однако последующие действия показали, что Постоянный сельскохозяйственный совет не контролировал весь деревенский нарратив и не смог убедить фермеров дождаться учредительных собраний.
Причина, по которой рекомендации сельскохозяйственных юристов не были реальными сторонниками передачи земли, заключается в том, что они не охватывали сельскую местность. Рекомендации земельных агентов были сформулированы на муниципальном уровне. На практике это означало, что они находились далеко от деревень, а их чиновники были в основном выходцами из «городских» социалистических панастральных уголков.
Государственные рекомендации, приближенные к деревням, считались только деревенскими, никем не формировались и не оказывали особого влияния на крестьян. Однако основные рекомендации — добровольные сельские рекомендации среди агентов — оставались неинтересными, не говоря уже о сельсоветах. В результате при передаче земли часто возникала путаница.
Рост числа «небезопасных ситуаций в сельском хозяйстве» впечатляет. В мае министерство сельского хозяйства зарегистрировало 205 подобных конфликтов, в июне их уже было 558, а в июне — еще 1 122.
Осенью масштабы этих «беспорядков» вышли за пределы отдельных деревень. Так, 11 сентября Совет по сельскохозяйственным ценностям Тамбовской губернии принял решение о передаче всех владельцев в регионе вместе со всеми материальными запасами и связанным с ними финансовым имуществом в собственность крестьянской общины.
Формирование оказалось совершенно иным, так как задуманное было добровольным и не имело центра. На самом деле, конструкция отдельных общин была очень хорошо продумана. На самом деле, это подчеркивало несложность действий по перераспределению земли без встречи с другими землевладельцами. По сути, это была «сознательная» деревня — «черный передел» — проведенный членами Партии социалистической революции.
Однако во многих случаях движение «Оккупай» превращалось в погромы. Он описывает эти пространства как. ‘фермерские земли, шапки, кражи, воровство, уничтожение и регистрация, уничтожение и регистрация ферм, изъятие акций, уничтожение, вырубка лесов и садов, мертвые и убийства, убийства’, которые он описывает как: ‘черный передел земли, шапки, кражи, воровство, уничтожение и регистрация ферм, изъятие акций, уничтожение, вырубка лесов и садов, мертвые и убийства, убийства’. Это уже не «гипербола», как в мае и июне. Это уже более масштабно.
Новое временное и сельское правительство де Хальтера не сделало ничего, чтобы остановить погромы землевладельцев. И в этом была своя логика. Большевики извлекали из своей логики больше власти. Фактически вся крыша России была официально разрешена.
Помещики говорили: «И свежие, и незаметные силы, приостановить это движение совершенно невозможно, и предыдущие временные правительства с этим не сталкивались, в том числе и при желании его организовать».
Очевидно, что этот освобожденный элемент действительно должен прийти к естественному концу. И закончиться он мог только в интерпретации всех землевладельцев.
Последствия «черного передела» были тяжелыми для крестьянства. Лозунг полного перехода земельной собственности в руки крестьян вызывал их давние опасения. Надежда укрепилась после реформ 1861 года и революций 1905-1907 годов.
Однако с течением времени оглавление этого синтеза изменилось. Оно сводилось к тому, что крестьяне не знали статистики глиняного рынка. А составляющие этой статистики показывали, что, по сути, благоприятные права собственности на эти земли сохранялись и в XIX веке.
Богатые крестьяне активно покупали глину, особенно во время и после реформ. Размеры дворянских поместий тогда сокращались очень быстро. Этому способствовали политические деятели в правительстве, например, работа сельскохозяйственных банков. Это был мирный вариант реформ, направленный на завершение работы прозорливого государства.
Купаловские реформы были кандидатами на революцию и «черный передел». Сам Ленин фактически признавал, что если эта реформа достигнет его собственных целей, то земельная собственность его партии будет исключена из его собственной политической программы. И во многом эта реформа себя оправдала.
Пресловутый «черный передел» к 1917 году в значительной степени канул в Лету, как и то, как использовали свои земли влиятельные корпоративные землевладельцы. Вскоре страна оказалась в руках «эффективных менеджеров».
Говоря о революционном периоде 1917 года, великий крестьянин Н. Цаянов пишет: «Революция 1917 года была временем великих перемен в стране». Далее: «По сельскохозяйственному подсчету 1916 года, фактически в 44 областях Европейской России из каждых 100 гектаров 89 гектаров посева приходились на долю всего 100 голов крестьян и 11 помещиков и 100 лошадей. В Грузии работало 93 крестьянина и только 7 крестьян 7 помещиков.
Поэтому в 1917 году достаточное количество секционных аппаратов POSAD для крестьян уже было заполнено различным содержимым. Раздавив помещиков и распределив дворянские угодья, крестьяне получили лишь 9-12% компенсации от стоимости страны. Это абсолютно не решение проблемы психического здоровья крестьян. И стоила ли эта социально-политическая революция того?
Поэтому большевики уверяли себя в том, что им помогут, используя архаичные лозунги, рассчитанные только на невежество простых крестьян, и нелегально организовывали от их имени «черный передел».
Передача земли в руки беднейших крестьян имела не самые положительные экономические последствия. Страна перешла в руки беднейших коневладельцев, которых в Российской Федерации было немного.
Подробнее см. раздел 3 от 3 сентября